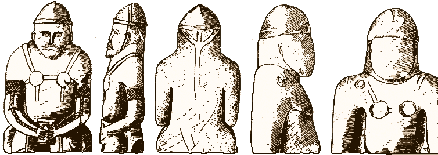Ольга Кузьмина о Мураде Аджи и его последней книге. «Вечерняя Москва».
Иногда мне кажется, что самые важные точки в жизни — именно те, коснуться которых ты не успел. Они же и самые болезненные — в силу своей невозвратности. Вот и сейчас я держу в руках книгу «Святой Георгий и гунны», автору которой мне не удастся уже сказать слов восхищения не только этим его последним трудом, а всем пройденным им путем.
Мне не пожать его руки, не взять у него интервью и не поговорить с ним о важном. Или даже о том, что выдает себя за это важное, на самом деле являясь суетой, на которую все мы так безоглядно размениваемся. Все — да не все…
В декабре этого года ему исполнилось бы 75 лет. Он ушел в марте 2018-го, доделав то, о чем мечтал — последняя страница его жизни закрылась, практически совпав с последними страницами книги всей его жизни — трудом, который он писал около двадцати лет, но к которому шел всю жизнь. Они были яркими, эти годы, и наполнены глубоким смыслом — благодаря этому труду в первую очередь. Но мы никогда не видим последней точки. Он знал, что она недалеко. И свято исполнял свое предназначение. Ведь если у твоей жизни есть смысл, ты почти не боишься ухода…
Мурад Эскендерович Аджиев любителям истории и ценителям наук был известен как Мурад Аджи. Это имя, пахнущее вольницей степи, пришло к нему не сразу. Оно громко зазвучало в теперь уже неблизкие 1990-е, когда все вокруг рушилось, люди хватались за обломки своего казавшегося надежным вчера, кто-то падал в бездну, а уцелевшие на обломках пытались просто выживать, думая о происходящем и уж тем более о вечном куда меньше, чем о куске хлеба. Вот в это время и стал известен “для широких масс” этот для многих непонятный, необычный человек, озаренный внутренним светом поиска. Он был красив, загадочен и убедителен. Как всегда убедительны наделенные верой.
Мурад Аджиев родился в Москве, он тут учился, окончил университет и защитился — его судьба изначально была предначертана, как и пути многих советских людей. Разница была лишь в том, что он кровью и духом своим ощущал нехватку чего-то важного — какой-то нити, которую, или отсутствие которой, точнее, он остро ощущал. Может быть, как географ, знающий все об истоках и устьях рек, начале и конце горных отрогов, может, просто как тонко чувствующий человек он маялся неведением, своим отрывом от прошлого: кто он и откуда пришел? Кто они — прежние носители его генов? Почему он — такой, а не иной, кто были те, кто стоял за ним, нес его фамилию, определил заданность? Сведения о прошлом, истории его семьи были отрывочными, а жить без корней было как-то неуютно. Он почти физически чувствовал, что без них крайне трудно стоять на земле прямо и крепко.
Ища опоры, а значит и себя самого, он поехал на родину предков — в дагестанский Аксай. В поездке к нему будто вернулось зрение: даже те места, где он не был прежде, казались ему знакомыми, и, вернувшись, он часами, если не сутками, торчал в Военно-историческом архиве. Зрение не просто возвращалось, оно становилось острее, даже ток крови стал иным. Предки — яркие, именитые, оставившие в истории Дагестана видимый след, выстраивались за его спиной, внимательно наблюдая за мятущимся потомком. Его фамилия зазвучала иначе, он замирал, пробуя на вкус их имена, начав различать сквозь десятилетия и века их лица. Но теперь требовалось другое. Он решил узнать историю того народа, чья кровь бежала в нем и в них, его предках. Но у кумыков, как оказалось, не было истории! Расселившиеся в степях и предгорьях Южной России тюрки, те самые половцы, что вскользь и даже как-то небрежно упоминались в учебниках истории, казалось, слышали его вопросы, но не давали на них ответа. И ему стало больно. «Мы — убитый молчанием народ», — понял он.
А параллельно странными путями памяти, возвращением в его собственное прошлое, в то же время ткалась ткань другой истории. Иногда услышанное или увиденное в детстве западает в душу больше, чем каскад университетских лекций. И он часто вспоминал эпизод, хранившийся в его памяти ярким загадочным лоскутом. Ему было пять, и бабушка к чему-то обронила фразу про Святого Георгия. В Москве это в принципе было неудивительно — найти символ защитника столицы было не так трудно и в те времена. Скорее всего, внук просто спросил что-то у любимой бабушки Екатерины Ивановны, а она, не отмахиваясь от детского любопытства, дала верный и простой ответ: «Георгий — наш защитник». И это врезалось в память. Как и незаданный мальчишкой вопрос, годами его тревоживший: а чей — наш?
Подобным вопросам не было места в атеистические времена СССР. Но они не исчезали. И с именем Святого Георгия Мурада Аджиева постоянно сталкивали какие-то казавшиеся случайными ситуации, которые позже он расценит как вовсе не случайные, а закономерные “ключи” к смыслу его жизни.
Годы шли, и два ручья этих его интересов неожиданно соединились. Или не неожиданно, а закономерно? Он выбрал второй ответ… И когда во время экспедиции в Дагестан под Дербентом были обнаружены следы пребывания Святого Георгия, невидимый круг замкнулся — он все делал верно и шел в правильном направлении. Он видел в истории о победе Георгия над Драконом недосказанность и сделал все, чтобы открыть эту тайну.
Так его исследования превратились в полноводную реку. Из нее вышли на свет книги, о которых начали спорить и шуметь — дерзкие по-своему труды, объяснявшие тайну великого подвига Святого Георгия и передающейся из поколения в поколение любви к нему. Он распутывал вехи жизни великого святого, которых при всем существующем почитании толком не знал никто, а вместе с ним открывалось другое — история обретшего голос народа.
Книг было много, каждая становилась событием… Он открывал закрытые страницы бытия, став наследником народной памяти, Мурадом Аджи. Он шел к постижению тайн Георгия, открывая забытое прошлое своего народа — так как было забыто и похоронено прошлое святого. Одну из книг он назвал «Полынь Половецкого поля». Полынной была и его собственная дорога, полная многотрудных исследований, разочарований и открытий, споров, поисков, озарений, мучительных раздумий.
Одни восхищались его трудами, создаваемыми параллельно с научными изысканиями географа. Другие — возмущались теориями Аджиева, встречали их настороженно, критиковали. Он же физически ощущал, как спадают оковы многовековой неправды и как важны для России открытые им исторические страницы, родословная одного из ее народов. Он бросил в прошлое луч света. Светлее стало в настоящем. Он стал пленником Половецкого поля. Но это было сладкое, добровольное пленение.
Великая Степь, половцы, Древний Алтай с особой породой алтайских людей, обладающих особым генным кодом, уникальная тюркская культура, забытое, стертое после XVII века с географических карт название Дешт-и-Кипчак… Мурад Аджи делал открытия, которые порой воспринимались в штыки, что было понятно — эта история была стерта из памяти, затоптана и замолчана, а ведь всем нам порой так не хочется опровергать живущие в нас догмы, открывая сознание для новых истин… Его теория Великого переселения с Алтая вызвала настоящий бум, она переворачивала представления о прошлом, но не могла уже сдерживаться обложками книг — она рассеивалась по свету, пускала корни, приносила плоды. А он…
Он просто шел своей дорогой к той правде, которую искал, в которую верил.
Мир постепенно превращался для меня в нечто цельное, большое, неразделимое. А вместе с ним едиными, неделимыми представлялись человечество и его культура. В том новом мире я и повстречался со Святым Георгием, человеком, подвиг которого обретал грандиозные очертания. Был сродни сотворению мира! …А когда узнал, что родился я в день памяти святого Георгия, понял — это моя Судьба.
И он прошел дорогой своей судьбы. До последней точки. И дописал последнюю страницу. Почти дописал…
Своей последней книги он опубликованной не увидел. Она вышла посмертно и лежит сейчас передо мной — увесистый том «Святой Георгий и гунны», сохранивший так много тепла и веры Мурада Аджи. Он не отворачивался от очевидного и увидел в гуннах не только свирепых степных кочевников, но и носителей уникальной культуры, следы которой кто-то просто не хотел замечать. Он разглядел в древних постройках осязаемые следы Великого переселения с Алтая и услышал голоса тех, кто нес в Европу веру в бога. Он ответил на массу вопросов и поставил в рукописи точку. И получилась книга об истории и верности. О забытой истории и безусловной верности своей памяти, своей крови, своей истине. О верности цели пути и смыслу жизни. Он смотрел на мир взглядом географа, много рассматривая именно через эту призму, и смог раздвинуть границы истории нашей страны минимум на тысячу лет. Слово “тюрки” он объяснял почти поэтически — люди, чья душа наполнена небом. Туда он и ушел.
Линия верности была продолжена — дорабатывала книгу и готовила ее к печати жена Мурада Аджи, Марина Алексеевна Курячая. И вот книга вышла.
… Мне никогда не пожать его руки, не взять у него интервью и не задать массу уточняющих вопросов, не стесняясь своего незнания. Но, листая книгу, я понимаю, что Мурад Аджи был и в моей жизни. Просто он остался тем самым узелком, до которого я не успела дотянуться. Но мы, я надеюсь, встретимся. Когда-нибудь. Пока же — просто прочтите его книгу. Она того стоит.
Ольга Кузьмина
«Вечерняя Москва»